советская эпоха
Комментарий к книге Подстрочник. Жизнь Лилианны Лунгиной, рассказанная ею в фильме Олега Дормана
Рецензия на книгу Доктор Живаго
Хойти
Долгие годы назад просачивавшиеся из-под спуда обрывочные сведения об этом романе ворочались глухо и грозно, как подкатывающая из-за границы видимости гроза. «Пастернак?.. Есть», — вполголоса. «Только условие: из дома не выносить. Хотите — переписывайте здесь». Это о стихах. И переписывали от руки (никаких машинок!). И читали проверенным друзьям; вернее: другу — кому-то одному, доверительно. Внезапно встреченные в добропорядочном советском романе процитированные без указания автора строчки воспринимались как вызов и тайный знак: «Вы меня понимаете».
Потом вдруг «стало можно». «Вы читали «Доктора Живаго»?.. Все читают!» Нет. Мне уже не хотелось. Слабое, но отчётливое отторжение вызывал ажиотаж. Потом когда-нибудь…
«Потом» настало через десять лет. И ещё раз — через двадцать. Роман за это время успел из крамолы стать классикой. Не только потому, что прошло полвека. И вовсе не потому, что он написан по каким-то классическим канонам (вот это как раз нет). Но он вобрал в себя дух и плоть времени, от которого мы не можем, не имеем права отречься. Это даже не «срез эпохи», не разлом, не «Разгром» — разрыв. Неровный, кровоточащий, болезненный, безнадёжный.
Начало книги способно разочаровать приступивших к ней с большими ожиданиями: сплошной предсмертный хруст французской булки и декадентский, чуть водянистый аромат нарцисса, окружающий главного героя, в котором привычно видится автор: обалдеть, как он тонко чувствовал, самобытно мыслил и хорошо писал, — плюс без автоспойлеров не обошлось: «Он ещё с гимназических лет мечтал о прозе, о книге жизнеописаний, куда бы он в виде скрытых взрывчатых гнёзд мог вставлять самое ошеломляющее из того, что он успел увидать и передумать. Но для такой книги он был ещё слишком молод, и вот он отделывался вместо неё писанием стихов, как писал бы живописец всю жизнь этюды к большой задуманной картине».
Результат? Читатель всё время помнит об этих «гнёздах» (хорошо, если нежных лесных птичек, а ну как шершней?) и время от времени на них натыкается: о судьбе евреев как народа, о материнстве, о сути искусства, о содержании творчества и сути вдохновения. И они, вставки эти, сами по себе хороши, умны, красивы, но уж слишком явно выпирают из текста, словно отграниченные от него то прихотливыми, то нервными росчерками пера.
Но что же сам текст, та «книга жизнеописаний», которую нам обещает автор?
Композиция аховая. Не роман, а собрание эпизодов на тему «человек в предлагаемых обстоятельствах». Часто семенящие цифрами мелкие главки — словно явления пьесы, которые одно за другим разыгрываются слегка недоумевающими актёрами на пустоватой репетиционной сцене перед тёмным залом одного зрителя — режиссёра. Как раз жизнеописаний — читай, судеб героев — в книге и не хватает, чтобы он вознёсся на безусловную сияющую вершину классики. Нет, не «Война и мир». Персонажам по большей части так и не удаётся стать героями: они лишь обрамление, иногда довольно схематичное, для главного героя, великомученика, «вечности заложника у времени в плену» Юрия Андреевича Живаго. Мне жаль, искренне жаль, что не хватает в романе сюжетных линий Михаила Гордона, Евграфа Андреича, Антипова-старшего, даже Ники Дудорова. Такое впечатление, что автор и собирался это сделать, но, несмотря на десятилетие работы над романом, так и не успел, а может, не смог, целиком захваченный двумя темами своего произведения: судьбой страны в самые кровавые и отчаянные её времена и личностью доктора Живаго.
Юрий Андреевич прекраснодушен. Он из тех редких людей, кто любому встречному открывает огромный кредит доверия — до тех пор, пока жизнь не заставит убедиться в опрометчивости такого решения. То же произошло у доктора-поэта и с революцией: от восторга «небывальщиной и свободой» он переходит сначала к сомнениям, потом к резкой её критике, а потом и к позиции «видеть, но не слышать»: ГГ подсознательно мечтает о такой участи. Увы, его попытка ухорониться от безжалостной эпохи «за стеклянными дверями» (этот сон Живаго — одна из страшных сцен романа, несмотря на её эфемерность) обречена на провал.
Роман о русском интеллигенте, попавшем в жернова истории, написан поэтом. Это не только потому, что главный герой пишет стихи — поэзией пропитана проза Пастернака. Ненавидимые школьниками всех поколений описания природы прекрасны и совершенны. Метафоры хрупки и отчётливы, цвета жизненны, речь точна и образна (взять хоть мастерски сделанную запыхающуюся короткими отрывистыми предложениями речь Тони на лестнице в сцене возвращения Живаго в Москву). Пить бы её вволю, без привязки к «политической ситуации»... Не получилось.
«Теперь всё ведь получало политическую окраску. Озорство и хулиганство в советской полосе оценивалось как признак черносотенства, в полосе белогвардейской буяны казались большевиками...»
Тогдашним властям был невыносимо обиден описанный автором бардак, который они (как всякие неуверенные в себе люди) принимали на свой счёт. А в отдельных эпизодах Пастернак выступил как прямая «контра», считали они.
Вот открытое наступление белых на поляне, вот искажённый текст псалма в ладанке убитого «красного» телеграфиста, а вот в тавлинке юного раненого противника, вчерашнего гимназистика, а ныне белогвардейца, оказался подлинный (!) текст того же псалма…
Да, такое не прощается, будь автор хоть трижды прав. «Это время оправдало старинное изречение: человек человеку волк», — говорит даже не Живаго, а сам автор. «Люди теперь страшнее волков», — эхом откликается Лара. И настоящие волки не раз и не два серыми тенями возникают на страницах романа. Чувствовал ли Борис Пастернак себя окружённым волками? Или понимал, что сам «рванул за флажки» и рано или поздно будет сбит меткой казённой пулей? Если чувствовал и понимал — что им двигало? Отчаяние или отчаянная храбрость, или, может быть, невозможность сделки с собой? Ведь наверняка он, как и Юрий Андреевич, стремился только к возможности работать, к просторному столу и чистой бумаге, к творчеству как высшей форме счастья. Но...
В эпилоге — совсем уж непростительный (с точки зрения госвласти 50-х годов и официального варианта отечественной истории) Гулаг. Даже сейчас под дых бьёт эпизод, когда люди сами себе возводят темницу, вышки и карцеры. Вот это по-настоящему страшно. А в разговоре Гордона и Живаго-младшего о благе войны по сравнению с невыносимой фальшью и нежизнеспособностью советской действительности тридцатых годов чувствуется пугающая, незнакомая нам правда.
«Век-волкодав» по-своему расправился со смельчаком автором. Жуткая судьба. Не за теракт, не за покушение на царствующую особу — за роман. Художественное произведение.
Уже потому — документ эпохи. Классика? Теперь уже — да.

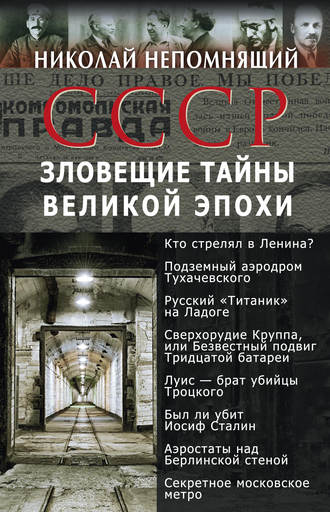
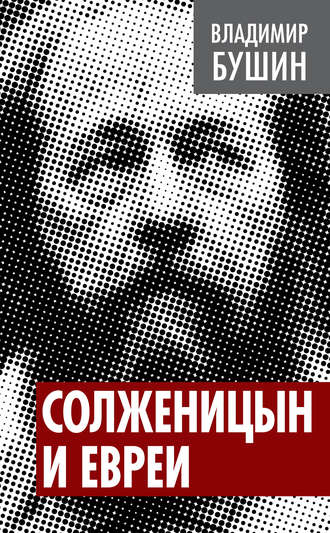
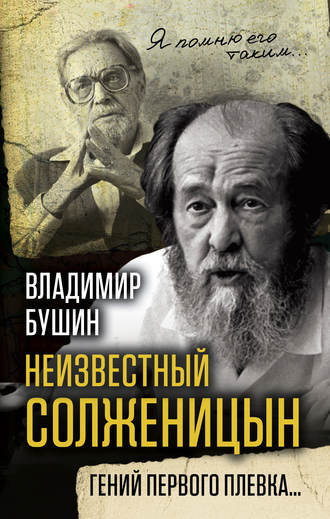

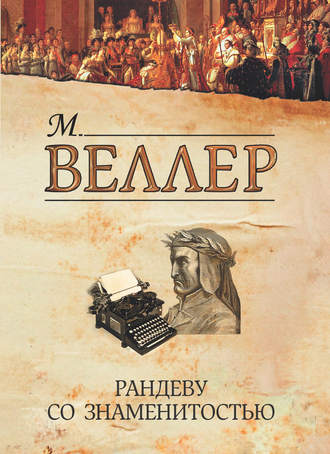
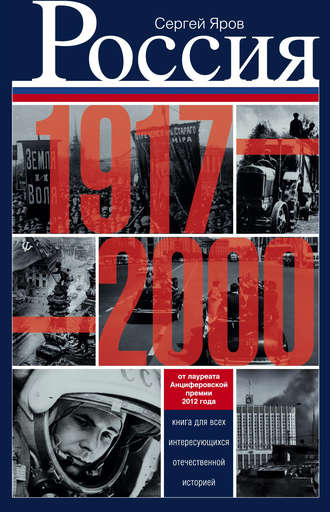





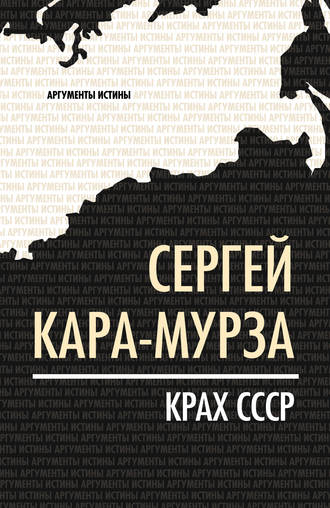







Обязательно просят оставить оценку, а я не знаю, что ставить.
Я прям СТОЛЬКО и прям ТАКОГО слышала про эту книгу, что была довольно сильно разочарована, потому что там всё ТОЛЬКО и СОВСЕМ про диссидентов. Лично мне это не слишком интересно.
Но если кого интересует данная проблематика - читать обязательно.